**
Порівняльна міфологія не піддається тим же критеріям науковості**, що і точні природничі науки, такі як **фізика** чи **хімія**.
Проте це **не означає, що вона “не наука”**. Вона просто підпадає під **іншу епістемологічну категорію** — гуманітарну або герменевтичну.
---
## 🧭 Яким критеріям піддається порівняльна міфологія?
### 🔹 1. **Інтерпретативність (герменевтика)**
* Замість строгих експериментів і повторюваних результатів, як у фізиці, тут діє **інтерпретація текстів, образів, символів**.
* Критерій науковості: **послідовна, логічно обґрунтована інтерпретація**, яка відповідає контексту й культурному середовищу.
> Наприклад, при порівнянні індоєвропейських міфів про грім (Зевс, Тор, Перун) оцінюють не точність формули, а глибину структурної аналогії.
---
### 🔹 2. **Порівняльний метод**
* Центральний інструмент — **зіставлення міфів, мотивів, сюжетів, образів** у різних культурах.
* Науковість тут визначається:
* **Системністю підходу** (не довільне порівняння, а чітка типологія),
* **Фіксацією джерел** (на що саме спирається дослідник),
* **Історичною обґрунтованістю** (чи можливі були контакти/спільні джерела).
> Наприклад, Жорж Дюмезіль порівнює індоєвропейські трифункційні моделі (царі-священики, воїни, виробники) в індійських, римських, скандинавських джерелах.
---
### 🔹 3. **Філологічна доказовість**
* Багато міфологів (як Вяч. Іванов, Томас Баррингтон, Дюмезіль, Уоткінс) працюють на перетині з **індоєвропеїстикою**, де ключову роль грає **лінгвістична реконструкція**.
* Наприклад, спільний індоєвропейський корінь *dyeu-* ("світло/бог/небо") допомагає зв’язати **Зевса, Дьяуса, Юпітера і Дієваса**.
> Лінгвістика тут виступає як інструмент "експериментальної перевірки" гіпотез — аналог наукового методу у гуманітарній сфері.
---
### 🔹 4. **Культурна контекстуальність**
* Інтерпретація має враховувати **культурний, історичний і соціальний контекст**, а не бути довільною фантазією.
* Наприклад, не можна ототожнювати будь-якого змія з "хаосом" без перевірки, що саме цей символ означав у конкретній традиції.
---
### 🔹 5. **Фальсифікованість гіпотез**
* Як і в науці, гіпотези в порівняльній міфології повинні бути **відкриті до критики, уточнення або спростування**.
* Якщо з’являються нові тексти чи археологічні знахідки — теорії переглядають.
---
## 📚 Порівняльна міфологія ≠ вигадування подібностей
На відміну від “популярної” міфологізації (на кшталт Данікена чи фентезійних історій), **академічна порівняльна міфологія**:
* працює з **джерелами (текстами, фольклором, епосом, мовою)**,
* застосовує **методи аналізу — лінгвістичний, структурний, типологічний, семантичний**,
* має **чітку наукову традицію** (наприклад, школа Дюмезіля, школа Еліаде, структуралісти, постструктуралісти, археоміфологи).
---
## 🧠 Формулювання для академічного контексту:
> **Порівняльна міфологія не є наукою в емпіричному розумінні природничих дисциплін, однак вона відповідає критеріям гуманітарної науковості: систематичність, аргументованість, джерельна перевірка, методологічна послідовність та відкритість до ревізії.**







.jpg)





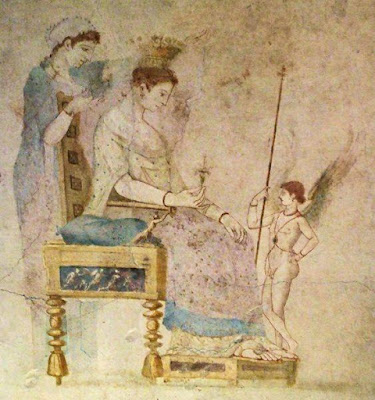




.jpg)
